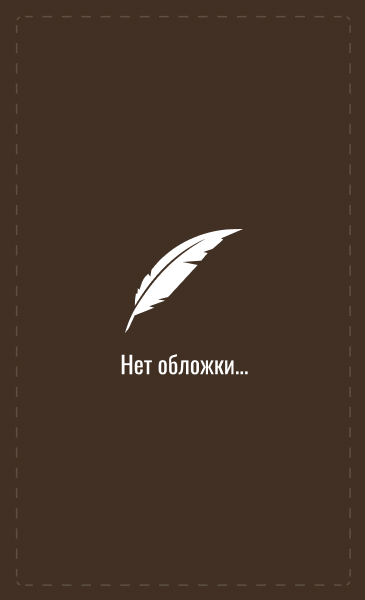
Метки
Описание
Сборник статей, посвященных слэшу в массовой культуре, фанфикшену и литературе в целом.
Примечания
Статьи основаны на подкасте "Слэш, трэш и галоперидол", который ведут авторы. Подкасты выкладываем в частном канале - ссылка на вступление https://t.me/+TraiNxkng5kkMfZw
‼Все, что мы сказали, лишь наше частное мнение.
Посвящение
Благодарим Фикбук за вдохновение, а слушателей и читателей за интересные идеи и отклики.
О том, как написать героев литературного произведения живыми людьми
08 июля 2023, 01:42
Дисклеймер: Эта статья в большей степени является актом авторской рефлексии и самолюбования, и потому вряд ли действительно полезна.
Мне довольно часто пишут в отзывах, что у меня живые герои. Такие, что их можно представить своими соседями или друзьями. Такие, которым искренне сочувствуешь, и проживаешь вместе с ними все события текста. Для меня это всегда самый приятный отзыв, поскольку я понимаю, что моя авторская задача выполнена. Когда я пишу художественный текст, я стараюсь писать исходя из жизненной правды, как я ее понимаю. А это в свою очередь приводит к необходимости выстраивать правдоподобных героев. Потому что нельзя сварить свежий суп из тухлых продуктов.
Тут надо сделать оговорку. Понимание жизненной правды всегда носит печать личности того, кто понимает. Полностью вычесть себя из своего произведения автор не может. Даже если очень захочет. Потому хорошие писатели узнаются по своим индивидуальным стилю, темам и интонациям. Плохие, впрочем, тоже. Меня однажды обвинили в том, что герой моего текста — это сорокалетняя баба с лишним весом, а не мальчик-гей. Ну окей, я не мальчик и не гей, и во мне есть пара десятков того, с чем бы я хотела расстаться. Но если выбирать между живым героем, наделенным некоторыми авторскими чертами и болями, и совершенной картонкой, я выбираю первое. Потому что даже, когда из героя не торчат опыт, боль и уровень интеллекта автора, они торчат из текста. У адекватного автора это работает на текст, у неадекватного получается дроч в стиле «я надену все лучшее сразу».
Во многих текстах самиздата герои выглядят и живут как в инстаграм-аккаунте на миллион подписчиков. Автор как будто проецирует на героя все свои хотелки. Он и танцует, и поет, и картины продает, а также благотворительностью занимается без отрыва от работы в крупной иностранной компании на топовой должности в свои 25 лет. Про внешность, гардероб и особые таланты в постели я умолчу. Это по определению должно быть у главного героя топа условного Литнета. Или героини, без разницы. А еще он смелый, сильный и независимый. За словом в карман не полезет. Ну, короче, Мэри Сью.
Так вот, мне про такое писать и читать не интересно. Я до этого светлого образа никогда не дотяну (помните про 40 лет и лишний вес?), и проблемы подобных белых людей мне не интересны. Я и инстаграм-то уже год как с телефона снесла.
К чему я это пишу? К тому, что правдоподобный герой не может состоять из одних достоинств. У него должны быть косяки, слабости и родимые пятна. Это не значит, что их надо вываливать в повествование прямым текстом. Но автор должен о них знать. Он должен понимать героя изнутри, чувствовать, как он поступит в тот или иной момент. И сюжет должен выстраиваться не только из воли автора, но и из внутренней логики героев.
Скучно читать текст, написанный автором-кукловодом. Там, где автор управляет героями и событиями, невзирая на то, что они не стыкуются друг с другом. Например, 20-летний мальчик-гей из трущоб вдруг на ровном месте отращивает у себя непоколебимое самоуважение, лидерские качества, знание всех законов жизни и английский на уровне носителя языка. С чего бы это? Если в тексте нет событий, которые сделали его таким, то с чего мне в это верить?
Мне отдельные читатели реально предъявляли претензии к образу Сереги в моем романе «Сереженька». Типа, противно читать, Серега себя не уважает и вообще тряпка и давалка, фу таким быть. Я полностью согласна, действительно, фу. Но только при вводных Сереги откуда ему заиметь самоуважение и адекватную самооценку. Конечно, и в трущобах вырастают люди с непоколебимым самоуважением и даже ЧСВ, но вряд ли среди них будет с детства глубоко травмированный студент филфака с глазами, как у Бэмби.
Словом, я ратую за то, чтобы герой отражал свой бэкграунд и обладал рядом узнаваемых личностных черт. Потому что, какой смысл тратить время на чтение истории любви сферических людей в вакууме? Наверное, в жанре ПВП или откровенной эротике это может прокатить, но, если говорить о литературе, в которой есть тема и сюжет, такое не работает. Одна из моих претензий к нашумевшему тексту про лето в пионерском г. было как раз почти полное отсутствие личностных характеристик героев. Ну да, один постарше и занимается селфхармом, второй помладше и… все на этом. Это люди «без судьбы». В большинстве диалогов, убери ты авторские ремарки, трудно понять, кто это говорит. Потому что в этих разговорах нет речевых характеристик персонажей. И практически нет четко обозначенных позиций по ключевым для истории вопросам. Эта претензия не только и не столько к этому тексту (я его читала наискосок и чуть не умерла от скуки). Кажется, такой подход сейчас вообще норма в сегменте массовой литературы. Но у меня нет потребности убивать свое время на такое. Мне нравится читать о чувствах, становлении личности, сложных отношениях живых людей, а не каких-то умозрительных конструкций. Хороший признак того, что вы читаете историю про сферических парней в вакууме — это когда после чтения первых глав вы не в силах запомнить имена героев и отличить их друг от друга.
Как написать героев, которые будут казаться читателям живыми людьми? Сложный вопрос. Могу выдать пару своих соображений по этому поводу.
Прежде чем продумывать персонажей, нужно понять, о чем ваш текст. Он о любви сквозь года, вражде, которая переросла в роковую страсть, веселых приключениях умного слуги и его глупого хозяина, или это квест во спасение мира с бросанием кольца всевластия в жерло вулкана? То есть нужна тема, которая определит жанр. А жанр даст понимание художественных задач текста: раскрыть тему несчастной любви, создать напряжение вокруг выполнения важной миссии, обострить характеры персонажей для создания комического эффекта и т.д.
На самом деле, в большинстве случаев ориджи и фики пишутся, чтобы разрешить какую-то волнующую автора ситуацию — например, соединить героев, разлученных в каноне, пофантазировать на тему пейринга учитель/ученик, или просто написать очередную слэшную историю любви брутального и хрустального в желаемых декорациях (Дикий Запад, космические пространства, московская подворотня и т.п.) Но даже в этом случае желательно иметь некое представление о теме рассказа. Например, в романе «Квартира» Даши Почекуевой раскрыта тема внутренней гомофобии и страха разоблачения, которая вытекает просто из выбранного ей сеттинга — эпоха советского застоя в маленьком городе. Если у вас есть представление о сеттинге и ситуации, которые вы хотите раскрыть, то тема, а чаще не одна, а несколько, появляется сама собой. Например, в том же моем тексте «Сереженька» в силу возраста героев тема взросления и становления просто не могла бы не прозвучать. Если бы я писала только о его половых приключениях и пиздостраданиях, это было бы неверибельно и кастрировало историю, сделало ее просто серией рассказов о том, как Серега в очередной раз с кем-то потрахался. К тому же я сразу затевала историю с развитием на годы, и было бы просто странно, если бы Серега в начале и в конце никак не изменился. Не меняются только мультгерои. Кстати, отсутствие развития персонажа тоже признак его «сферичности».
Итак, вы определились с сеттингом, ключевыми событиями и темой. Тут пора присмотреться к персонажам. Даже расхожая парочка «брутальный/хрустальный» может иметь множество оттенков. И важно продумать их так, чтобы герои на протяжении вашего текста нуждались друг в друге, дополняли или, во всяком случае, имели некие точки соприкосновения. Одного гейства (если мы о слэше, а мы всегда о нем) маловато. Истории типа «принц и нищий», конечно, волнуют сердца, но они мало представимы в жизни, если опять же автор не даст им какие-то точки соприкосновения. Например, их сводит вместе какая-то ситуация — внезапное наследство, или один работает на другого, или они вынуждены вместе спасать мир. Помимо внешних обстоятельств их должно тянуть друг к другу и что-то внутри них самих. И это не только внезапная вспышка страсти. На ней роман (во всех смыслах) не построишь. Обычно в качестве точки соприкосновения хорошо работают похожие травмы и вытекающие оттуда общие проблемы — одиночество, потеря близких, отчужденность от своей среды, жажда любви, поиск чего-то нового, поскольку старое уже отжило.
Когда вы точно знаете качества своих героев, вы начинаете чувствовать их изнутри, как актер понимает и внутренне оправдывает персонажа, которого играет. Даже если играет отборную мразь. Ведь актерская игра — это не торговля лицом и не выученный текст. Это присвоенная на время спектакля личность. И находясь внутри нее, актер чувствует, действует и реагирует. И если он делает это органично, это вызывает восхищение публики, потому что она верит ему. Точно так же читатель верит автору, если тот сумел выстроить правдоподобный образ персонажа, который действует в тексте согласно своей внутренней логике.
Если речь идет о любовном романе, вы должны себе ответить на вопрос, что связывает этих людей, что их притягивает друг в друге и что разъединяет. Последнее иногда важнее первого. Это жизнь хороша без драм — встретились, влюбились, поженились, а в искусстве для любви нужны препятствия. Причем, в современной литературе не столько внешние, сколько внутренние. Препятствия и противоречия создают сюжетное напряжение, выстраивают ритм повествования — встречи-расставания, ссоры-примирения и т.п. Все эти эмоциональные качели выглядят уместно и правдоподобно, если на них катаются не сферические геи в вакууме, а люди с позицией. Например, один хочет открыто заявить об их отношениях, а другой сидит в шкафу. Или один хочет делать карьеру и путешествовать, а другой хочет посадить партнера в четырех стенах, потому что сгорает от ревности. Все эти позиции тоже не берутся с потолка. Если гей плотно сидит в шкафу, значит, у него должна быть для этого веская причина. Может, он, как Эннис в «Горбатой горе» в детстве видел двух убитых геев, с которыми расправились гомофобы. Может, у него была деспотичная мать, которая внушила ему, что можно, а что нельзя. А может, он из гомофобной бандитской среды, где быть геем — зашквар и потеря всего, включая жизнь. Кстати, озвучивать причину той или иной позиции персонажа в тексте необязательно. Уж во всяком случае не стоит ее манифестировать с порога. Главное, ее знать и строить образ героя с учетом этого знания. Пусть персонаж частично проговаривается, демонстрирует отношение к проблеме в поведении и поступках. Так читателю интереснее читать. Потому что тема, раскрытая в лоб, сразу опрокидывает художественный текст на уровень педагогической дидактики и морализаторства. Типа как в типичном переводном янг эдалте автор все время ходит с табличкой и для тупых вещает что-то вроде «видите, дети, до чего доводит то-то и то-то, не делайте так со своей жизнью». Так-то читатель сам должен выводы сделать из прочитанного. В этом и состоит диалог автора и читателя. А он состоится, только если автор не держит читателя за идиота, не пихает ему в лоб свои бесценные мысли, и не подсовывает ему сферических героев в вакууме, заполняя пространство текста их бессодержательными диалогами и ссорами на пустом месте, чтобы потом они в очередной раз помирились и потрахались. Кстати, насчет диалогов. Эту боль я опишу в своей следующей статье.


